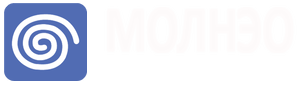Краснодарский краевой онкологический диспансер
А.В. Янкин
Успех в лечении нейроэндокринных опухолей желудочнокишечного тракта основывается, прежде всего, на использовании современных методов диагностики с обязательным фенотипированием опухоли и определением специфических маркеров.
Корректный гистопатологический диагноз дает возможность не только определить характер и тип опухоли, но и прогнозировать развитие заболевания.
Нейроэндокринные опухоли (НЭО) желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) составляют менее 2% всех опухолей этой локализации. Встречаемость наибольшей группы - пациентов с карциноидами, составляет 2,4 на 100 000 населения. Реальные показатели заболеваемости - по всей видимости, далеки от действительности, так как при исследовании аутопсийного материала карциноиды брюшной полости встречаются с частотой 8,4 на 100 000 человек [6, 23]. По своей сути нейроэндокринные опухоли - это гетерогенная группа эпителиальных опухолей с эндокринно-клеточной дифференцировкой и наличием ряда антигенов нервной ткани. В литературе существуют следующие синонимы этих новообразований: «карциноидные опухоли», «АПУД-омы», «гастроэнтеропанкреатические опухоли», «опухоли островковых клеток». Они отражают не только отдельные виды НЭО, но и являются своего рода иллюстрацией истории открытия этой группы заболеваний: в 1902 г. Oberndorfer впервые ввел термин «карциноид»; в конце 70-х годов Pearse выдвинул концепцию специализированной высокоорганизованной клеточной системы, которую он назвал APUD-системой (Amine Precursor Uptake and Decarboxylation).
НЭОЖКТ можно представить в виде двух больших групп 1-я - карциноиды; и 2-я - опухоли поджелудочной железы, к которым относятся: гастринома, соматостатинома, глюкагонома, випома, инсулинома. Карциноидные опухоли, развивающиеся из энтерохромаффинных клеток, и инсулинома, источником которой являются клетки островкового аппарата поджелудочной железы, в 80-90% случаев являются доброкачественными, поскольку в основе их лежит трансформация специализированных зрелых клеток [32]. Источником других нейроэндокринных опухолей, таких как гастринома, випома, соматостатинома, является мультипотентная стволовая клетка, дающая начало как эндокринным, так и экзокринным клеткам. Потенция к злокачественному росту неоплазм из этих клеток достигает 60-70% [16].
НЭО поджелудочной железы по способности секретировать специфический гормон делятся на функционирующие и нефункционирующие. Функционирующие опухоли составляют 60%, встречаются с частотой 3,6-4 на 1 млн. населения и включают в себя такие известные клинические синдромы, как Золлингера - Эллиссона, гипогликемический синдром, синдром Вернера - Моррисона и др. Опухоли, не сопровождающиеся клиническими симптомами, называются нефункционирующими и составляют 15-30% всех НЭО [15]. Несмотря на отсутствие характерных клинических проявлений, эти опухоли также секретируют гормоны (хромогранин А, панкреатический полипептид YY), не вызывающие каких-либо клинических проявлений, но определяющие принадлежность их к НЭО [16, 35]. Карциноиды классифицируют по эмбриогенезу относительно отделов эмбриональной кишечной трубки: из верхней, средней и концевой части - foregut, midgut, hindgut соответственно. К foregut НЭО относят опухоли легких, тимуса, желудка, ДПК и поджелудочной железы; к midgut НЭО - опухоли тонкой кишки, аппендикса, правых отделов толстой кишки; к hindgut НЭО опухоли левой половины ободочной кишки и прямой кишки. В этих подгруппах для опухолей характерны определенные общие биологические и клинические характеристики. Так, foregut НЭО отличает низкое содержание серотонина, частая секреция гистамина и различных гормонов, определяющих клинику и онтогенез опухоли. Эта группа опухолей характеризуется высоким потенциалом метастазирования в кости и атипичным течением карциноидного синдрома. Midgut НЭО редко секретируют гормоны, но секреция серотонина и других вазоактивных субстанций (кинины, простагландины, субстанция Р) обусловливает высокую частоту карциноидного синдрома. В то же время, при локализации НЭО в дистальных отделах толстой кишки карциноидный синдром практически не встречается. При этом отмечается высокая частота метастазирования в печень и очень редко поражение костей [15].
Нейроэндокринные опухоли могут возникать спорадически или как проявление наследственного синдрома множественных эндокринных неоплазий. Известно 4 синдрома: MEN-1, MEN-2, синдром von Hippel-Lindau, комплекс Carney. Наиболее часто с НЭОЖКТ ассоциируется синдром MEN-1, описанный в 1954 г. Вермером. Наследуется он по аутосомно-доминантному типу. У родственников I степени риск заболеть множественными эндокринными опухолями составляет 50% [21]. Неоплазии в этой группе больных возникают в 2-4 органах, содержащих эндокринные клетки. Характерны следующие проявления MEN-1: паратиреоидная гиперплазия (90%), доброкачественные и злокачественные панкреатические эндокринные опухоли (80%), аденомы гипофиза (40%), аденомы надпочечников (15%), аденомы щитовидной железы, карциноиды, липоматоз [30]. Лиц с MEN-1 во 2-3-й декаде жизни и их родственников подвергают тщательному мониторингу. Для этого используют специальную программу скрининга, предложенную B. Eriksson [11, 12], включающую обязательное определение следующих биохимических показателей:
1) сывороточный кальций;
2) паратиреоидный гормон в сыворотке;
3) гастрин и инсулин в крови натощак;
4) хромогранин А и панкреатический полипептид в плазме;
5) пролактин в сыворотке у женщин.
Как указывалось выше, более половины нейроэндокринных опухолей желудочно-кишечного тракта являются функционально активными. Секреция пептидных гормонов и аминов определяет клиническую картину. Целесообразным является более детальное рассмотрение опухолей, определяющих эти синдромы.
Карциноиды
Карциноидные опухоли встречаются с частотой 2-3 на 100 000 человек. Самая частая локализация карциноидных опухолей - червеобразный отросток, второе место занимает тонкая кишка (подвздошная в 23 % случаев, тощая кишка в 1%). Карциноиды толстой и прямой кишки редко сопровождаются карциноидным синдромом, на их долю приходится 1-2% всех раков этой локализации. В желудке и двенадцатиперстной кишке карциноид диагностируется лишь в 3-6% случаев, поэтому среди НЭО билиопанкреатодуоденальной области встречается всего в 3-4% случаев. Возникают карциноиды из желудочно-кишечных энтерохромаффинных клеток [32].
К моменту постановки первичного диагноза метастазы определяются у 45% больных. По частоте метастазирования первое место занимает поджелудочная железа - 76%, затем идет тонкая и толстая кишка - 71%. Пятилетняя выживаемость всех карциноидов, независимо от локализации, составляет примерно 50%. В 10% случаев они ассоциируются с MEN-1 [15].
Карциноидные опухоли секретируют в разных пропорциях биоактивные амины и пептиды, включая нейронспецифическую энолазу, серотонин, 5-гидрокситриптофан, синаптофизин, хромогранины А и С, инсулин, панкреатический полипептид, гормон роста, нейротензин, АКТГ, меланоцитстимулирующий гормон, кальцитонин, различные тахикинины, рилизинг-гормонp, фактор роста тромбоцитарного происхождения, гормон роста, бомбезин, трансформирующий фактор роста Р [35]. Они могут быть определены в сыворотке заболевших с помощью иммунохимических и радиоиммунохимических методов.
Специфическим клиническим проявлением является карциноидный синдром. Типичная форма синдрома отмечается в 95% случаев и чаще всего манифестирует при метастазах в печень. Для него характерны следующие симптомы: приливы (90%), поносы (70%), боли в животе (40%), поражение клапанов сердца (45%), телеангиэктазии (25%), диспноэ (15%), пеллагра (5%). Типичный синдром в первую очередь обусловлен серотонином, тахикининами, калликреином, простагландинами. Атипичный синдром регистрируется в 5% случаев, характеризуется приливами, головными болями, слезотечением, бронхоспазмами. Атипичный синдром является следствием опухолевой секреции 5-гидрокситриптофана, гистамина и других пептидов и гормонов и характерен для карциноидов желудка и ДПК [15]. Приливы при атипичном синдроме проявляются кратковременным покраснением лица, шеи, туловища по сосковым линиям. Основными жалобами являются ощущение жара, слезотечение, потливость, зуд. Кожа при атипичном синдроме приобретает пурпурно-фиолетовый цвет, на месте эритемы возникают множественные телеангиэктазии. Эти изменения более длительные, чем при типичном синдроме.
У больных развиваются кардиальные нарушения, обусловленные фиброзом эндокарда, который приводит к дефектам клапанов. Обычно повреждаются створки трикуспидального клапана и клапаны легочных вен, что ведет к трикуспидальной недостаточности и вторичной правожелудочковой недостаточности. При высоких уровнях тахикининов кардиологические осложнения особенно выражены. Больные с карциноидным синдромом страдают от белковой недостаточности, поскольку 50% пищевого триптофана расходуется на синтез серотонина.
Наиболее тяжелым осложнением является карциноидный криз. Он может возникнуть спонтанно или провоцироваться такими факторами, как стресс, анестезия, биопсия опухоли. Все симптомы в этот период обостряются в связи с выбросом в кровь больших количеств биологически активных веществ. Карциноидный криз является неотложным жизнеугрожающим состоянием.
Для диагностических целей, а также мониторинга терапии карциноидного синдрома, в моче определяют серотонин и его основной метаболит - 5-гидроксииндол- уксусную кислоту (5-HIAA). Если содержание в моче 5-HIAA > 150 мкмоль за 24 ч - это несомненное свидетельство карциноидного синдрома [35].
В целом у пациентов с карциноидными опухолями прогноз относительно хороший - 5-летняя выживаемость для всех стадий заболевания составляет 50%. Пятилетняя выживаемость после появления карциноидного синдрома составляет 30-47%, так как появление этих симптомов является признаком поздних стадий заболевания [15].
Инсулиномы
Эти опухоли были впервые описаны в 1938 г. Основной симптом - гипогликемия, связан с гиперсекрецией опухолью инсулина. У 97% больных он выше 10 pU/ml, в норме - менее 5 pU/ml. На 25% повышается уровень протоинсулина. Типичным для наличия опухоли является соотношение инсулина к глюкозе, равное 0,3 [2]. Инсу- линомы в 90% случаев - доброкачественные опухоли, возникающие в 99% случаев в р-клетках поджелудочной железы, очень редко в двенадцатиперстной кишке. Лишь 4-5% инсулином имеют отношение к синдрому MEN-1. Эти опухоли встречаются с частотой 0,8-2,0/1 000 000. Среди больных инсулиномой 60% женщин. Обычно инсулиномы имеют небольшие размеры - не более 2 см, в 90% они носят характер солитарных, в 10% - множественных [15].
Характерными клиническими проявлениями являются: триада Випля (симптомы гипогликемии, уровень глюкозы в крови - менее 45 mg/dl (менее 2,2 ммоль/л), исчезновение симптомов при принятии сахара); нейрогликопенические симптомы; адренергические симптомы. Больные испытывают чувство голода, у них расплывчатое зрение, спутанное сознание, нейропсихические нарушения, судороги. Проявлениями адренергических нарушений являются тремор, повышенная потливость [2].
Гастриномы (синдром Золлингера - Эллисона)
Впервые синдром образования множественных пептических язв дистальной части пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, тонкой кишки в результате гиперсекреции гастрина опухолью островкового аппарата поджелудочной железы описан в 1955 г. [15]. Опухоли, продуцирующие гастрин, получили название гастрином. Встречаются они с частотой 0,5-1,5 на 1 000 000 человек, чаще у мужчин. По частоте после инсулином занимают второе место среди эндокринных опухолей поджелудочной железы. В 70% случаев опухоли возникают в двенадцатиперстной кишке, в 25% - в головке поджелудочной железы, в 5% - в других органах (желудке, тонкой кишке). В большинстве случаев эти опухоли злокачественны, 25% опухолей связаны с мутацией MEN-1 [22].
Гастриномы обычно маленького размера, трудно обнаруживаются во время операции. Метастазы в лимфатические узлы и печень встречаются в 75-80% случаев уже на момент диагностики, метастазы в кости в 12%. Четко прослеживается вероятность озлокачествления гастрином в зависимости от размеров первичной опухоли. Если они менее 1 см в диаметре, метастазы в печень наблюдаются в 4%, при диаметре опухоли от 1 до 2,9 см - в 28%, от 3 см и выше - в 61%. Спорадические гастриномы растут медленно, в 34% они бессимптомны [15].
Диагноз гастрином ставится в первую очередь с помощью биохимических исследований. В крови у больных обнаруживаются избыточные количества гастрина G-17 (в 80%) или G-34 (в 20%). Если рН желудочного сока более 2,5, диагноз гастриномы можно исключить. Кроме упомянутых вариантов гастрина, гастриномы экскретируют панкреатический пептид (РР) в 17-50% случаев, инсулин (20-30%), глюкагон (33%), соматостатин (35%), мотилин (29%), нейротензин (20%), гастрин рилизинг-пептид (10%), хромогранины А, В и С [15, 22].
В случае подозрения на органический гиперинсулинизм проводится проба с голоданием [1, 25], которая считается положительной, если у пациента в течение 72 ч развивается триада Уиппла. При подозрении на СЗЭ для дифференциальной диагностики с гиперплазией G-клеток антрального отдела желудка и вторичной гипергастринемией целесообразно использовать кальциевый или секретиновый тест, а также пробу с белковой нагрузкой [4].
Гипергастринемия обусловливает трофические нарушения в слизистой оболочке желудка, двенадцатиперстной и тонкой кишке. У 93% пациентов обнаруживаются пептические язвы, в 36% случаев они множественные. Возникающие при этом осложнения (перфорации, кровотечения, стеноз пилорического отдела) - основная причина летальности. Другим симптомом гастрином является диарея до 30 раз в сутки, связанная с повреждением слизистой оболочки тонкой кишки, нарушением ее моторики и физиологии (гиперсекрецией гастрина, инактивацией панкреатической липазы, осаждением желчных кислот) [15].
Топическая диагностика НЭО состоит из последовательно чередующихся двух этапов: дооперационной и интраоперационной диагностики. Для этой цели в большинстве случаев используются традиционные и широко применяемые в медицине методики.
Хирургический метод способен излечить больных гастриномой. После удаления первичной опухоли 51% пациентов переживают 5 лет [27]. Симптомы, связанные с гиперсекрецией гормонов, исчезают после удаления опухоли. Однако, в большинстве случаев, гастриномы широко метастазируют в печень, лимфатические узлы, кости. При метастазах в печень лишь 30% пациентов доживают до 5 лет [15].
Випомы (синдром Вернера - Моррисона)
Опухоли получили такое название из-за секреции вазоактивного интестинального пептида (V1P). Впервые синдром описан в 1958 г Встречается в основном у взрослого населения с частотой 0,05-0,2 на 1 000 000 человек при соотношении мужчин и женщинам 1:3. Випомы в 70-80% случаев возникают в поджелудочной железе (в 75% случаев в ее хвостовой части), в 10-20% - в надпочечниках, нервных ганглиях, тонкой кишке, средостении, легких. Панкреатические випомы почти всегда злокачественные (в 80% метастазируют в печень), экстрапанкреатические - доброкачественны. Синдром MEN-1 диагностируется лишь у 6% больных.
VIP приводит к развитию тяжелых, изнуряющих поносов, получивших название эндокринной холеры. Хронические поносы приводят к обезвоживанию, потере электролитов, тетанусу, судорогам, кардиальным изменениям. Из-за развития гипокалиемии возможна внезапная смерть. Кроме VIP, в сыворотке часто обнаруживается его предшественник РНМ-27 (пептид гистидин, метионин).
Другими симптомами випом являются эритема кожи головы и туловища, гиперкальциемия, в 41% случаев гипохлоргидрия, гипергликемия [34].
Глюкагономы
Глюкагономы в 100% случаев возникают в а-клетках поджелудочной железы, в хвосте (50-80% случаев), в головке (в 22%), теле (в 14%). По заболеваемости глюкагономы относятся к крайне редким опухолям - от 0,01 до 0,1 на 1 000 000 человек. С синдромом MEN-1 связано 5-17% заболевших. Глюкагономы в 80% случаев злокачественные, метастазируют в печень в 90% случаев, в лимфатические узлы в 30%, редко описываются метастазы в позвоночник, яичники, по брюшине [15].
Связь симптоматики глюкагоном с выработкой глюкагона установлена в 1974 г Уровень глюкагона в крови больного превышает норму в 10 раз. Глюкагон стимулирует распад гликогена, глюконеогенез, кетогенез, секрецию инсулина, липолиз, тормозит желудочную и поджелудочную секреции.
Клиническими проявлениями синдрома являются: потеря массы тела (70-80%), диабет (75%), дерматит (65-80%), стоматит (30-40%), диарея (15-30%). Нередкими проявлениями заболевания являются психические расстройства, тромбозы и тромбоэмболии. Первичные опухоли на момент диагностики достигают крупных размеров - от 5 до 10 см, в 80% случаев имеются отдаленные метастазы в печень [15].
Лечение нейроэндокринных опухолей
Проблема лечения больных с НЭО заключается не только в ликвидации опухолевого процесса, но и в избавлении от тягостного симптомокомплекса, обусловленного гиперпродукцией характерного активного гормона или пептида. Нередко причиной смерти больного является не прогрессия опухоли, а осложнения, развившиеся в результате гормональной гиперпродукции. Радикальное удаление первичной опухоли при НЭО является наиболее эффективным методом лечения, так как прерывает ни только рост злокачественной опухоли, но и избавляет больного от тягостных страданий. Эффективность хирургического лечения можно продемонстрировать исследованием, проведенным в Национальном институте рака (США). В группе из 151 больного, радикально оперированного по поводу НЭО, 10-летняя выживаемость составила 94%, метастатическое поражение печени за 10 лет отмечалось лишь в 3% случаев. При этом в контрольной группе из 26 человек, получавших лишь лекарственное лечение, метастазы в печень за 5 лет отмечались в 26% случаев. В первой группе не было смертей от прогрессирования опухоли, во второй - от генерализации процесса умерли 3 пациента. Это исследование дало возможность авторам сделать достаточно смелый вывод о том, что хирургическое вмешательство прекращает естественную историю развития НЭО [27].
Несмотря настоль обнадеживающие результаты, в 65-70% случаев больные со злокачественными формами НЭО на момент первичного обращения имеют метастазы в печень и другие органы, что требует комплексного подхода для получения максимального клинического результата. Циторедуктивное удаление НЭО и ее депозитов является ведущим этапом лечения данной группы больных. Полное удаление опухоли и метастазов в печень дает возможность добиться 80% 5-летней выживаемости [7, 31]. L. Barclay и соавт. [4] опубликовали работу, в которой проанализировали результаты циторедуктивных операций у 20 больных с распространенными формами НЭО: у 10 больных отмечались метастазы в печень, причем, у 6 в обе доли, в 14 случаях опухоль поражала забрюшинные лимфатические узлы. Полной циторедукции удалось добиться в 75% случаев. За период 19 мес выживаемость составила 90%, у 60% не отмечалось рецидива заболевания. Иллюстрацией перспективности и необходимости циторедуктивных вмешательств является трансплантация печени, при ее изолированном метастатическом поражении. В публикациях H. Lang и соавт., Y.P. Le Treut и соавт. представлены отдаленные результаты лечения 12 и 31 больного с ортотопической трансплантацией печени (ОТТП) по поводу изолированного метастатического поражения нейроэндокринными опухолями. Послеоперационная летальность составила 14% и 19%; 5-летняя выживаемость - 50% и 36% соответственно [19, 20].
В то же время, необходимо отметить, что лечение метастатических форм НЭО не возможно без дополнительной химио- и симптоматической терапии.
Роль интерферона
Впервые K. Oberg в 1982 г. начал исследование эффективности интерферона при НЭО и получил объективный эффект у 15% больных [29]. Анализ сводных данных лечения 383 больных альфа-интерфероном продемонстрировал следующие результаты: симптоматический эффект наблюдался в 40-60% случаев, биохимический ответ - в 30-60%, стабилизация опухоли (более 36 мес) - у 40-60% больных, редукция опухоли - 10-15%. Доза интерферона колебалась от 3 до 9 МЕ 3 раза в неделю. Корреляции между дозой и объективным эффектом не отмечено, использование высоких доз не привело к улучшению результатов. Медиана выживаемости составила 20 мес [13]. Использование интерферона в качестве второй линии (после химиотерапии) дало возможность получить ответ в 77% случаев [28]. По данным К. Oberg, комбинация интерферонов с химиотерапией не улучшила результатов лечения [28].
Таким образом, лечение интерфероном показано при опухолях с низкой пролиферативной активностью, как в первой, так и во второй линии, а также в качестве второй линии после химиотерапии. Комбинация интерферона и аналогов сандостатина целесообразна при клинически манифестированных формах НЭО [28].
Роль октреотида
Особое место в лечении больных с функционально активными НЭО имеет аналог природного соматостатина - октреотид Всего выделено 5 подтипов соматостатиновых рецепторов. Соматостатин и его синтетический аналог октреотид оказывают наибольшее блокирующее влияние через рецепторы 2-го и 5-го подтипов. Рецепторы соматостатина представлены и в первичных опухолях и в их метастазах [3]. Природный соматостатин имеет короткий период полураспада (3 мин), поэтому не может быть использован для лечения нейроэндокринных опухолей. Для этих целей используется аналог соматостатина - октреотид, полураспад которого составляет 2 ч. Октреотид оказывает яркий симптоматический эффект, понижая секрецию гормонов и пептидов, экскретируемых при випомах в 89%, при глюкагономах - в 75%, при инсулиномах - в 65% наблюдений. Клиническое улучшение отмечается от 6 до 12 мес [5, 36].
После применения октреотида при разных опухолях поносы прекращаются у 40-60% больных [8]. Октреотид контролирует гипогликемию при инсулиномах, некролитические кожные повреждения при глюкагономах, что значительно улучшает качество жизни пациентов [9]. При випомах октреотид полностью прекращает диарею в 38% случаев, еще у 38% больных значительно ее уменьшает, улучшает общее состояние в 75-85%, полностью подавляет секрецию VIP у 40% больных, уменьшает уровень этого пептида еще у 40% [34].
Октреотид, помимо выраженного симптоматического эффекта, оказывает противоопухолевое действие. Большинство авторов признают, что аналоги соматостатина в обычных дозах замедляют рост нейроэндокринных опухолей [33]. Е. Bajetta и соавт. [3] у 58 больных со злокачественными нейроэндокринными опухолями показали, что октреотид в дозах 1,0 мг 3 раза в день обеспечивает длительную стабилизацию процесса (более 6 мес), редукцию клинических проявлений и снижение уровня маркеров опухоли (в 73% и 77% случаев соответственно). Имеются сообщения, что высокие дозы октреотида - 5 мг подкожно 3 раза в день обладают антипролиферативным действием, задерживают в 43% случаев рост опухоли при лечении в течение года [11].
Определенный интерес представляет депо-форма октреотида - сандостатин (LAR). Кроме удобства (поскольку применяется один раз в месяц), он имеет преимущества перед обычным сандостатином за счет поддержания непрерывной концентрации препарата в организме, что увеличивает симптоматический и противоопухолевый эффекты. В таблице представлены сводные литературные данные, демонстрирующие антипролиферативный эффект препарата при НЭО в стандартных и высоких дозах. Стабилизация опухоли отмечалась в 36-70% случаев. Регрессия опухоли отмечалась лишь в 3-5% случаев при использовании высоких доз препарата [1, 10, 11, 14, 33].
В последние годы открылись новые возможности терапии злокачественных нейроэндокринных опухолей, что связано с внедрением в клиническую практику радионуклидной терапии октреосканом (1111п-октреотид). Для радиотерапии используются высокие кумулятивные дозы октреоскана - 20 Gbq. Радиоактивный октреотид, внедряясь в опухолевую клетку, подавляет секрецию гормонов и оказывает антипролиферативный эффект [17]. В 2004 г. опубликованы обнадеживающие результаты лечения 400 больных НЭО. Пятилетняя выживаемость пролеченных этим методом составила 50% [17].
Химиотерапия
НЭО нельзя назвать чувствительными к химиотерапии, это обусловлено низкой митотической активностью, а также высокой экспрессией генов множественной лекарственной устойчивости (MDR-1) и антиапоптотического гена (BCL-2) [15]. Спектр эффективных химиотерапевтических препаратов для лечения генерализованных форм нестоль уж велик. Стрептозотоцин (СЗТ) долгое время считался основным препаратом для лечения НЭО. В режиме монотерапии стрептозотоцином объективный эффект зарегистрирован у 46,8% больных [18]. В то же время, применение доксорубицина в режиме монотерапии дало эффект лишь у каждого пятого больного (20%) [25]. Комбинация стрептозотоцина и доксорубицина вызывает эффект у 69% больных. Комбинация стрептозотоцина с фторурацилом активна у 45% пациентов [26].
Влияние сандостатина на рост опухоли у больных с генерализованными формами НЭО
| Стандартные дозы |
| Saltz L. et al., 1993 (n = 34) | Стабилизация роста опухоли 2–27 мес – 50%
Без регресса опухоли |
| Arnold R. et al., 1996 (n = 52) | Стабилизация роста опухоли 3–6 мес – 36%
Без регресса опухоли |
| Di Bartolomeo M. et al, 1996 (n = 38) | Стабилизация роста опухоли 6–32 мес – 52%
Частичный регресс опухоли – 3% |
| Высокие дозы |
| Erikson B. et al., 1997 (n = 13) | Стабилизация роста опухоли 6–32 мес – 70%
Частичный регресс опухоли – 5% |
| Faiss S. et al., 1999 (n = 30) | Стабилизация > 12мес – 70%
астичный регресс опухоли – 3%
Полная ремиссия – 3% |
Таким образом, в настоящее время принято считать, что комбинация стрептозотоцина и доксорубицина более эффективна при высокодифференцированных НЭО [25], а при анаплазированных НЭО предпочтение отдается сочетанию цисплатина и этопозида (эффект достигается в 67% случаев) [24]. Необходимо также отметить, что имея в арсенале такие препараты, как интерферон, аналоги сандостатина, октреоскан, обладающие сравнимым с химиотерапией эффектом, но значительно меньшей токсичностью, показания для ее проведения должны быть четко определены. На сегодняшний день химиотерапия показана при генерализованных формах низкодифференцированных НЭО, а также при опухолях, резистентных к другим видам лечения [28].
Заключение
Успех в лечении нейроэндокринных опухолей желудочно-кишечного тракта основывается, прежде всего, на использовании современных методов диагностики с обязательным фенотипированием опухоли и определением специфических маркеров. Корректный гистопатологический диагноз дает возможность не только определить характер и тип опухоли, но и прогнозировать развитие заболевания.
Основными лечебными задачами являются: удаление первичной опухоли, торможение опухолевого роста, подавление гормональной экспрессии, улучшение качества жизни больных с НЭО.
Хирургический метод остается методом выбора и единственным способом, дающим возможность добиться выздоровления.
Рациональное и комплексное использование современного арсенала хирургических и терапевтических методов дает возможность значительно продлить жизнь и улучшить ее качество у больных с метастатическими формами нейроэндокринных опухолей.
Литература
1. Arnold R., Trautmam ME., Creutzfeldt W. et al. Somatostatin analogue octreotide and inhibition of tumour growth in metastatic endocrine gastroenteropancreatic tumors // Gut. - 1996. - Vol. 38. - P. 430-438
2. AxelrodL Insulinoma: cost-effective care in patients with a rare disease // Ann. Intern. Med. - 1995. - Vol. 123. - P. 311.
3. Bajetta E, Carnagi С., Ferrari L. et al. The role of somatostatin analogues in the treatment of gastroenteropancreatic endocrine tumors // Digest. - 1996. - Vol. 57 (Suppl. 1). - P. 72-77.
4. Barclay L. Aggressive surgical intervention suggested for neuroendocrine tumor // Arch. Surg. - 2003. - Vol. 138. - P. 859-866
5. Battershill PE, Clissold SP. Octreotide: a review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties, and therapeutic potential in conditions associated with excessive peptide secretion // Drugs. - 1989. - Vol. 38. - P. 658-702.
6. Berge T. Linell F. Carcinoid tumours. Frequency in a defined population during a 12-year period // Acta. Pathol. Microbiol. Scand. [A]. - 1976. - Vol. 84. - P. 322-330.
7. Carty SE,Jensen R.T., NortonJA Prospective study of aggressive resection of metastatic pancreatic endocrine tumors // Surgery. - 1992. - Vol. 112. - P. 1024.
8. Coupe M., Levi S., Ellis M. et al. Therapy for symptoms in the carcinoid syndrome // Ann. Med. - 1989. - Vol. 73. - P. 1021-1036.
9. Degen L., Beglinger C. The role of octreotide in the treatment of gastroenteropancreatic endocrine tumors // Digest. - 1999. - Vol. 60 (Suppl. 2). - P. 9-14.
10. Di Bartolomeo M., Bajetta E, Buzzoni R et al. Clinical efficacy of octreotide in the treatment of metastatic neuroendocrine tumors // Cancer. - 1996. - Vol. 77. - P. 402-408.
11. Erikkson B, Renstrup J, Iman H. et al. High-dose treatment with lanreotide of patients with advanced neuroendocrine gastrointestinal tumors: Clinical and biological effects // Ann. Oncol. - 1997. - Vol. 8. - P. 1041-1044.
12. Eriksson B, Oberg K. An update of the medical treatment of malignant endocrine pancreatic tumors // Acta. Oncol. - 1993. - Vol. 32. - P. 203.
13. Eriksson В., Oberg K. Interferon therapy of malignant endocrine pancreatic tumors // Endocrine tumors of the pancreas: Recent Advanced in Research and Management, 1995. - P. 451-460
14. Faiss S., Rath U, Mansmann U. et al. Ultra high dose lanreotide treatment in patients with metastatic neuroendocrine gastroenteropancreatic tumours // Digest. - 1999. - Vol. 60. - P. 469-476.
15. Kaltsas GA , Besser GM, Grossman AB. The Diagnosis and medical management of advanced neuroendocrine tumors endocrine reviews 25 (3). - P. 458-511.
16. Kloppel G., Schroder S., Heitz P.U. Histopathology and immunopathology of pancreatic endocrine tumors // Endocrine tumors of the pancreas: recent advances in research and management / Mignon M., Jensen R.T. eds. - Basel: S. Karger, 1995. - P. 120.
17. Krenning E. Radiotherapy in NET. An Educational Conference of the European Neuroendocrine Tumor Network «Cur- rent Status of the Diagnosis and Treatment of Hereditary and Sporadic Neuroendocrine Tumors of the Gastroenteropancre- atic System», 2004.
18. Kvols LK, Buck M. Chemotherapy of the metastatic carcinoid and islet cell tumors: a review // Amer. J. Med. - 1987. - Vol. 82. - P. 77.
19. Lang H., Oldhafer KJ., Weimann A. et al. Liver transplantation for metastatic neuroendocrine tumors // Ann. Surg. - 1997. - Vol. 225. - P. 347-354.
20. Le Treut YP, Delpero J.R., Dousset B. et al. Results of liver transplantation in the treatment of metastatic neuroendocrine tumors. A 31-case French multicentric report // Ann. Surg. - 1997. - Vol. 225. - P. 355-364.
21. Metz D.C., Jensen R.T., Ball AF. et al. Multiple endocrine neoplasia type 1: clinical features and management // The Parathyreoids / Eds. Bilezekian J.P. et al., 1994. - P. 591.
22. MetzD.C. Diagnosis and treatment of pancreatic neuroendocrine tumors // Semin. Gastrointest Dis.
23. Modlin IM, Lye KD, KiddM. A 5-decade analysis of 13,715 carcinoid tumours // Cancer. - 2003. - Vol. 97. - P. 934-959.
24. Moertel C.G., Kvols LK, O'ConnellMJ, RubinJ. Treatment of neuroendocrine carcinomas with combined etoposide and cisplatin // Cancer. - 1991. - Vol. 68. - P. 22.
25. Moertel C.G., Lavin P.T., Hahn R.G. Phase II trial of doxorubicin for advanced islet cell carcinoma // Cancer. Treat. Rep. - 1982. - Vol. 66. - P. 1567.
26. Moertel C.G., Lefkopoulo M., Lipsitz S. et al. Streptozotocin-doxorubicin, streptozotocin-fluorouracil, or chlorozotocin in the treatment of advanced islet cell carcinoma // New Engl. J. Med. - 1992. - Vol. 326. - P. 519.
27. Norton JA, Fraker D.L, Alexander HR et al. Surgery to cure the Zollinger - Ellison syndrome // New Engl. J. Med. - 1999. - Vol. 341. - P. 635.
28. Oberg K. Chemotherapy and biotherapy in the treatment of neuroendocrine tumours // Ann. Oncol. - 2001. - Vol. 12 (Suppl. 2). - P. 111-114.
29. Oberg K Interferon in the management of neuroendocrine GEP-tumors // Digest. - 2000. - Vol. 62 (Suppl. 1). - P. 92-97.
30. Padberg В, Schroder S., Capella C. et al. Multiple endocrine neoplasia type-1 (MEN-1) revisited // Virch. Arch. - 1995. - Vol. 426. - P. 541-548.
31. Que F.G., Nagorney DM, Batts KP. et al. Hepatic resection for metastatic neuroendocrine carcinomas // Amer. J. Surg. - 1995. - Vol. 169. - P. 36.
32. Rindi G, Capella C, Solcia E. Pathobiology and classification of digestive endocrine tumors. // Recent Advances in the Pathophysiology of Inflammatory Bowel Disease and Digestive Endocrine Tumors / Mignon M., Colombel J.F., eds. - Mon- trouge: John Libbey Eurotext, 1999. - P- 177-191
33. Saltz L, Trochanowski B., Buckley M. et al. Octreotide as an antineoplastic agent in the treatment of functional and nonfunctional neuroendocrine tumors // Cancer. - 1993. - Vol. 72. - P. 244-248.
34. Santangelo W.C., O’Dorisio TM, Kim J.C. et al. Vipoma syndrome: effect of a synthetic somatostatin analogue // Scand. J. Gastroenter. - 1986. - Vol. 21 (Suppl. ll9). - P. 187-190.
35. StridsbergM., ObergK, Engstrom U, Lundquist G. Measurements of chromogranin A, chromogranin В (secretogranin I), chromogranin С (secretogranin II) and pancreostatin in plasma and urina from patients with carcinoid tumours. // J. Endocrinol. - 1995. - Vol. 144. - P. 49-59.
36. Vinik A., Moattari AR Use of somatostatin analog in management of carcinoid syndrome // DigDis. Sci. - 1989. - Vol. 34. 14S-27S.
Поступила в редакцию 25.11.2005 г.